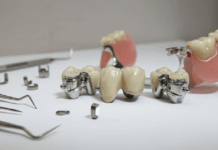Как ни сближай, как ни сравнивай, не было рядом с Вавиловым и двух сходных натур. Словно не растения, а человеческие характеры изучал Николай Иванович, словно с умыслом собрал вокруг себя этих дерзких, ершистых, на редкость своенравных людей. Или, может, не он, может, сами они почуяли, где наклюнулась, дала первый росток настоящая наука… Из Тулунской тайги, с восточного края земли, явился вдруг молодой Писарев. Загорелый, в японских крагах, вошел, выложил на стол охапку забайкальских красноколосок и неспешным говорком стал толковать о далеких сородичах сибирских пшениц. Вавилов сказал: «А что, Виктор Евграфович, не махнуть ли вам в Монголию?» Словно сто лет ждал Писарев этого вопроса, в месяц собрался и за тридевять земель ушел искать диких крепышей, забытых предков русского хлеба.
А в это время в тифлисском ботаническом саду собиратель редчайших злаков, всезнающий Петр Михайлович Жуковский, читал вавиловское письмо: «Жду Вас в Ленинград, хотел бы поручить Вам создание мирового гербария… Вы обязательно должны ехать в Малую Азию…» Жуковский увяз в делах, не в силах вырваться, получить визу, валюту, – Вавилов достал все и, снарядив, отправил его в Турцию.
Приехал из Средней Азии Пангало, напористый, честолюбивый – теперь и бахчевые в надежных руках.
И вот уже не выдержал, оставил ради Вавилова опытную станцию, родную Тимирязевку Леонид Ипатьевич Говоров, добрейший Ипатьич, лучший селекционер страны – к чему бы ни прикоснулся он, все расцветало, словно ааронов меч был в его руке… И приник уже к окуляру киевлянин Левитский, седой профессор с осанкой спортсмена и славой мирового цитолога, и тут же рядом вглядывается в тончайшие структуры злаков Николай Авдулов – пианист без обоих хрусталиков, слепой музыкант, ставший первоклассным микроскопистом. И хлопочет Синская, угрюмо молчит над своими овсюгами Мальцев, щурится, разглядывая на солнце вегетационные пробирки, истинный создатель стадийного учения академии Максимов, и сам Константин Андреевич Фляксбергер, старый остзейский немец, человек огромных знаний и великого самоуважения, начал уже сортировать, раскладывать по ящичкам горы вавиловских находок.
Еще нет ВИР’а, еще по старинке называется он Отделом прикладной ботаники, а все атланты, вся громада вировская уже в сборе.
Оптимисты и скептики, философы и педанты, путешественники и коллекционеры, они, как разноименные заряды, тянулись друг к другу. Но, собравшись воедино, могли разом погаснуть, нейтрализовать свой потенциал. И нужно было быть Вавиловым, чтобы при всей пестроте, житейской несопряженности этих натур держать их вместе. Вровень с глобусом держать.
Чем-то привлекал их этот не очень рослый, с большими залысинами, чуть шепелявивший, совсем не красноречивый человек. «Мы не держимся системы вытаскивания, – говорил он приглашенным. – Предоставляем вашей доброй воле решить. Но что зависит от нас – сделаем». И они шли, да так шли, что вскоре пришлось ему сдерживать, отбиваться, просить отсрочки.
Не было тогда около Николая Ивановича людей серых, незначительных, этих всепроникающих second class workers, сумел оградиться, спастись, ибо не научных сотрудников собирал он вокруг себя, а ученых.
И вот в этот строгий, вавиловским оком обозреваемый мир я должен ввести сейчас моего героя… Мне даже боязно за него, смотрите, как он молод, как непростительно розовощек, а пальтишко, кепочка без пуговицы… И этот фанерный чемоданчик. Как-то встретят вас здесь, дорогой Георгий Дмитриевич, Гоша… Ну, смелее, вот моя рука – пошли!
Если бы судьба этого юноши была в моих руках, если бы мог я сочинить ее наново, хоть на йоту изменить, о, я продумал бы всё, я повел бы его беспечальной тропою, остерег, укрыл от многих бед.
Первые десять лет ему везло. Отчаянно везло. Ну, скажите, всякому ли студенту удается поставить опыт, который станет потом дедом всей его жизни, принесет мировое признание? А с Карпеченко так и случилось. Еще не кончив Тимирязевку, тощ, бос и деловит, он явился на опытное поле профессора Жегалова и получил ддя скрещивания два совершенно несовместимых овоща: капусту и редьку. Жегалов, опытный огородник, знал, что делал, но Карпеченко и ввек не поженил бы эту странную пару, не случись с ним рядом Александры Гавриловны Николаевой. Знаток тончайших клеточных структур, капризов хромосомной механики, она подсказала короткий и верный путь. Три года спустя Карпеченко хлопотал около грядок, на которых цвели, кустились, завязывали семена невиданные гибриды. Едва начав свой путь, он создал, по собственному плану вылепил небывалое растение, сконструировал новый вид.
И тут счастье в третий раз улыбнулось ему доброй улыбкой Николая Ивановича Вавилова:
– Генетикой у нас некому заниматься, воленс-ноленс придется вам ее начинать…
И он получил приглашение в Ленинград, стал первым генетиком вавиловского института. А дальше все пошло, как по писаному. Вот эти письма.
Дорогой Георгий Дмитриевич,
посылаю Вам бумагу для Главнауки, срок командировки прописал, как видите, полугодовой… Когда поедете, поставим Вам миллион заданий.
Бумага в Главнауку была энергична и коротка:
Всесоюзный институт прикладной ботаники новых культур ходатайствует о командировании за границу Г.Д.Карпеченко.
Г.Д.Карпеченко начаты интересные работы по гибридизации культурных растений. В этой области много делается в скандинавских странах и Германии.
Проблемы, разрабатываемые Г.Д.Карпеченко, показали в нем очень ценного, подающего большие надежды работника. Институт настоятельно ходатайствует о срочной командировке.
Директор профессор Вавилов.
Гибрид гибридом, талант талантом, а все-таки пусть поездит, поглядит на мир. И Вавилов отправил его в дальний путь.
Спешу сообщить Вам о своем путешествии. Был у Федерлея, Мора (Осло), у Нильсон-Эле, Герберт-Нильсона, сейчас засел в лаборатории Винге.
В Швеции прочел два доклада о своих гибридах…
Представьте себе, имел большой успех, особенно в Лунде.
Как видите, я уже в Берлине… Сегодня целый день работал. Думаю, месяца через два закончу предварительный анализ гибридов… Мы, несомненно, выходим на путь экспериментальной проверки. Если мои сотрудники не подведут, мы кое-что узнаем!
Одной идеей захвачен Карпеченко: проверить, подтвердить, во что бы то ни стало доказать свою правоту. Тот странный брак капусты и редьки сулил большое открытие, первым в мире Карпеченко получил от него плодовитых потомков, заставил пустоцвет принести семена. Это ли не чудо! Или, может, случайность, неповторимая удача? Откроет ли его гибрид путь к скрещиванию других видов, к генетическому синтезу новых форм? Или останется свидетелем несбывшейся мечты… Карпеченко хотел уловить, проследить, до мельчайших деталей разобрать механику чуда.
Гибрид был росл, кустист и достоверен. Но как множатся в нем клетки, как делят свое хромосомное хозяйство, каким образом стерильный, от века бездетный гибрид, растительный мул вдруг становится плодовит?
В нем всегда жили два человека: Карпеченко – генетик и Карпеченко – агроном. Не то, чтобы враждовали, ссорились, нет, но какая-то борьба, вернее, доброе соперничество, все время держало их на чеку. Весной его тянуло в поле. Сын лесника, он знал силу земли, но когда растение капризничало, когда полевой опыт осекался, заходил в тупик, верх брал генетик, и он снова спешил к микроскопу.
На жегаловском поле он рассуждал как агроном: у капусты и редьки одинаковое число хромосом. Чем не пара? Эти растения рождены для скрещивания. И в первую же осень он вырастил больше ста гибридов. Но что это были за гибриды! Чахлые, низкорослые, в каждом стручке два-три щуплых зерна, да не из каждой завязи стручок. Агроном все-таки устоял – весной он высеял эти семена. И увидел, как неодинакова их природа. Больше половины погибли, но остальные, выбросив ростки, вдруг вымахали, расцвели и дали полновесные семена. Карпеченко собрал урожай и впервые задумался: что же произошло? Почему гибрид чахнет в бесплодии или так бурно, неукротимо растет?
Агроном спросил, но ответить мог только генетик. И, вырастив новое поколение гибридов, он понес их в лабораторию.
Клетки, клетки… До оранжевых пятен в глазах. Три года сутулился он над микроскопом, три долгих года, тасуя стеклышки, старался засечь, уловить поломку хромосомной механики. И наконец понял: дело в родителях. Хромосомы капусты и редьки, хоть и равны числом, неспособны попарно воссоединяться. Только настанет момент сближения, только устремятся наследственные частицы друг другу навстречу – и словно какая-то сила расталкивает, путает, сбивает их с накатанного пути.
Поровну не сошлись, значит, и не разойдутся. Клетки гибрида полны такими неделящимися наборами хромосом. И это несоответствие останавливает их рост, убивает растение. Так где же выход, как превратить стерильный гибрид в цветущий плод?
Карпеченко пошел дальше, в глубь растения, он уже понимал, что только там, на самом дне клетки найдет путь к её спасению.
Гибриды гибнут – это так. Но те гигантские, выросшие из полновесных семян плоды, не дадут ли ему ответ на загадку? Почему они все-таки выросли? И он взял их под микроскоп.
Небывалое зрелище! Клетки гибрида, нарушив все законы, несли по два полных набора – девять пар редечных и столько же капустных хромосом. Природа случайно наделила их удвоенным комплектом наследственных частиц. Так не в этом ли их сила.
Он считал, пересчитывал, старался поймать себя на ошибке: нет, вместо обычных девяти, в каждой клетке восемнадцать пар хромосом – два полных родительских набора. И вот эти-то два делились по всем правилам хромосомной механики.
Секрет был пойман. Растение само подсказало ему выход: нужно удвоить число хромосом, ликвидировать несоответствие – и бесплодию конец. Капусту ли с редькой, пшеницу ли с рожью, землянику с клубникой – все можно скрестить и, умножив хромосомный набор, вывести новый вид.
Простая мысль, а поди полтораста лет не находила подходящей головы. Полтора столетия ботаники опыляли, скрещивали, получали гибель бесплодных гибридов. И не могли доискаться причины. Карпеченко нашел, на обыкновенной редьке сделал первоклассное открытие. Пусть гибрид несъедобен, пусть горьки его плоды, он и сам подшучивал над своими капредьками. Но что открыл – знал. Не в редьке ведь дело: он сконструировал небывалое растение, облукавив природу, создал новый, непредвиденный линнеевскими таблицами вид. Инженерную генетику основал Карпеченко. И пусть ему возразят! В Европе ли, в Азии он сумеет доказать свою правоту.
Открытие сделано – надо его отстоять.
«Ох, эти редьки, надоевшие мне хуже горькой редьки…» В Финляндии, Швеции, Дании, в берлинском ботаническом саду, в Кембридже и Оксфорде он объяснял, спорил, показывал препараты, часами говорил о своих экспериментах. И размышляя, напористо и неотступно шел к цели: «Работаю нервно, не могу часто заснуть до 4-5 часов, всe думаю, думаю, и все об этих гибридах…» Да и как не думать, как не плутать ему в этом причудливом мире: удвоил хромосомы – хорошо, учетверил – отлично, взял вшестеро – гибрид снова бесплоден. В чем тут дело, где край, предел, как добиться лучшего сочетания? Сквозь лабиринт пробивается Карпеченко, через густую сеть загадок. Кто подскажет ему верный путь, кто лучше его знает дорогу к истине?
Датские генетики смотрят его препараты, возражают, советуют, приводят сокрушительные контртеории, шведы устроили ему овацию, менделеевское общество Лунда благодарило за приезд, финн Федерлей – старейший генетик писал: «Es war mir eine grosse Freude ihre so schnen Fraparaten zu sehen, und zu bewander»*.
А лабиринт все тот же, сеть густа. И он думает, думает… Ах, как часто вспоминает он Вавилова: за границей любопытно побывать, больших людей повидать, вдохновиться, но работать, дело делать надо дома. «В июне необходимо быть в России, как Вы на это смотрите?» – спрашивает он у Николая Ивановича.
Вернулся, и снова за гибриды. Через год опубликовал итог всей работы и вместе с Вавиловым, с Кольцовым, Серебровским и Четвериковым отправился в Берлин, на конгресс генетиков.
В Международный комитет по Рокфеллеровским премиям.
В прекрасной, тщательно продуманной работе Г.Д. Карпеченко удалось получить совершенно новый промежуточный вид или, вернее, род… Обнаруженные исследователем факты открывают широкие возможности в межвидовой гибридизации растений, и ныне пропасть, которая до недавнего времени отделяла виды и роды, становится проходимой…
Мы считаем своим долгом отметить выдающееся значение этой работы нашего соотечественника.
Директор Всесоюзного института Прикладной ботаники и новых культур
Это был успех, полная удача. Берлинский конгресс генетиков одобрил сватовство капусты и редьки, и улыбчивое, широконосое, с большим вскатистым лбом лицо свата несколько дней мелькало в европейских газетах. На двадцать восьмом году жизни он был признан, всемирно знаменит. Сбылись желанья: хотел стать ученым – стал, мечтал сделать открытие – сделал, первый раз выступил на конгрессе – весь глобус, генетики обоих полушарий признали его успех. Что еще ждать ему от судьбы? Кажется, все взял.
Нет, двух лет не прошло, получил Рокфеллеровскую премию и поехал в Калифорнию. К самому Томасу Гейту Моргану, отцу современной генетики, получил приглашение. Ах, этот Карпеченко, счастливец Карпеченко…
Давно ли собирал он листья капусты, обедал на лихоборских огородах, давно ли подвешивал осьмушку хлеба к лампе, чтобы до времени не съесть? Давно ль везет так этому синеглазому вологодскому пареньку? И долго ли будет еще везти? Я с тревогой слежу за линией его взлетов, смотрю, как все круче, круче забирает он вверх. Ох, Георгий Дмитриевич, от счастья еще никто не умирал, но от зависти, злобы… Не слышит, где там! Уже Томас Морган цитирует, ссылается на его труды.
Что скрывать, успех радовал, окрылял Карпеченко. Никогда не строил он столько планов, не уходил так глубоко в свои опыты, никогда не был так собран и деловит, как в то жаркое калифорнийское лето. Его звали читать лекции в Корнельском университете – отказался, пригласили в британский селекционный центр – поблагодарил за честь. В нем поселилась какая-то неуемная тяга, жадность к делу. И, как это часто бывает с людьми увлеченными, захваченными большой работой, он целиком вверился течению своих мыслей.
Генетика географических рас, полиплоидия, сотни новых скрещиваний, переопылений, лабораторных анализов, Бог весть, сколько перебрал он тем, продумал гипотез, подходов, сюжетов. А на слова был скуп, в письмах краток и деловит: «Живу хорошо, работа идет. Привет Николаю Ивановичу…», «Работаю, все all right. Отношения прекрасные». И он гнал, опыт за опытом выстраивал на пути к цели. У Моргана не работают на редьке, хорошо, возьмем ячмень, будем скрещивать дрозофилу, постигнем эту знаменитую муху! «Разучился yжe жить без того, чтобы думать о каком-нибудь эксперименте», – вырвалось у него в одном письме. И работа росла, ширилась, не оставляла его даже во сне.
«Это был несомненно генетик мирового масштаба», – отозвался о нем Феодосий Григорьевич Добжанский. И оценка эта тем ценна, что сам Добжанский был одним из крупнейших генетиков мира.
Академик Н.И.Вавилов – академику О.Ю.Шмидту.
«В качестве кандидатов, достойных премии им. В.И.Ленина, могу указать следующих лиц: профессора Николая Александровича Максимова. Профессора Алексея Григорьевича Дояренко.
Третьим кандидатом мы позволяем себе выдвинуть молодого ученого Георгия Дмитриевича Карпеченко. Его работа “К проблеме экспериментального видообразования, полиплоидные гибриды редьки и капусты” представляет исключительный интерес в области генетики за последние годы».
Вавилов – Елене Ивановне, жене.
Прибыл сюда. Видел Карпеченко. Он теперь постиг всю классику генетики.
Николай Иванович здоров, свеж и жизнерадостен. Очень был счастлив видеть его. Послезавтра он снова здесь проездом в Мексику.
Вавилов – проф. М.О. Шаповалову
Я здесь с Карпеченко и Добжанским – это лучшие наши генетики.
Чем больше думаю о Карпеченко, чем упорнее стараюсь постичь эту натуру, склад ума, тем чаще мысль возвращается к Вавилову. Тут какой-то узел, судьба. Вся жизнь Карпеченко, все его взлеты, необыкновенные удачи, все, что было с ним хорошего, связано с Вавиловым. Пятнадцать лет Николай Иванович творил, можно сказать, своими руками делал Карпеченко. И вместе они ушли… Что связывало их, какая сила?
Расспросы, письма, поездки, я пытался выудить, выжать ответ у множества людей. Загадка требовала объяснения. Не объединились же они по принципу разноименных зарядов?
– Наоборот! Из всех сотрудников Вавилова по человеческим свойствам Карпеченко был ему самым близким…
– Он привлек Николая Ивановича своим талантом, молодостью!
– Вавилов видел в нем будущее нашей генетики.
– Их объединял оптимизм, вера в науку…
– Убежденность в своей правоте!
– Личного тут, знаете, много, старое дружество…
– Поймете отношения – постигните людей.
Увы, я не постигал, не ног постичь моих собеседников. Добрые люди, они изо всех сил старались мне помочь, напрягали память, подыскивали слова… И говорили о сходстве характеров, родстве душ, общности интересов… Все так, да только ли в этом дело?
Если я скажу вам, что Вавилов почти с первого знакомства понял, оценил и, как собственного сына, полюбил Карпеченко, это будет чистая правда. Но не вся правда. Мне хотелось найти её скрытую, недоговоренную половину. И я допытывался, перебрал старые бумаги, терялся в догадках, пока не набрел на несколько деловых писем. Тут я понял главное: Вавилов и Карпеченко великолепно дополняли друг друга. Это было редчайшее сочетание, союз двух ярких, совершенно несхожих умов, стилей, манер мышления. Карпеченко работал медленно, с трудом, как через железную стену, пробивался к цели. Вавилов настигал её с ходу, бил влёт. Карпеченко был человек точных знаний, Вавилов – всеобъемлющей широты; один постигал суть явления, доискивался скрытых механизмов, другой объяснял их назначение, с орлиной высоты высматривал их место в природе.
Вавилов на машинке, Карпеченко от руки – обычная деловая почта. Но, боже мой, какие там были дела! Сколько идей, сюжетов, проблем втиснули они в эти глянцевитые четвертушки. И как спорили!
«Я очень хотел бы возможно быстрого перехода к хлебам», – требовал директор.
«Не думаете ли Вы, что генетика нуждается в некоторой свободе действий? – отвечал подчиненный. – Не должен ли тут всякий сосредоточиться на небольшом числе объектов, но знать о них все? Не имеем ли мы королей дрозофилы, кукурузы, гороха?»
Злаки тревожат Вавилова, генетика иммунной ржи, неполегающих пшениц… «Институтское дело большое, всемирное». А Карпеченко свое: глубина, а не широта! Весь мир для него в светлом круге микроскопа. Как выйти из этого круга, как сочетать свою глубину с вавиловским размахом? «Так вот, my dear, – предлагает директор, – по генетике плодовых нам надо начать paботу…» – «Да полноте, директор шутит!» «My dear» тоже не лишен юмора: «От непосредственного перехода с редьки к землянике, согласитесь, ничего, кроме расстройства желудка, ожидатъ нельзя». Попробуй, договорись с этим строптивцем!
Читаю дальше и вдруг вижу: «Генетическая проработка всего материала – как бы это было важно…» Вавилов? Нет, Карпеченко! Но словно вавиловский дух в него переселился. Из письма в письмо размышляет он о происхождении пшениц, об истоках вида, о неожиданном родстве совсем несхожих злаков. К эволюции потянулся Карпеченко, и уговаривать не надо, сам пришел! И вот уже задумал он всесветский опыт: «Если по ячменю географы подытожат изменчивость, а систематики нарисуют нам районы распространения, мы дадим генетические формулы и для очевидности большую часть растений просто синтезируем…»
Так вот как обернулось дело, с природой задумал соперничать Карпеченко, хочет в лаборатории, тасуя гены, руками повторить ее тысячелетник труд! А Вавилов поддразнивает, Вавилов задорит, подбрасывает новые идеи. «Вот пишу «Лен». Собрали весь мир. В счастливой Аравии нашли самую раннюю в мире пшеницу, там же – самый ранний в мире ячмень. А вот на днях узнал, что люцерна синяя в Йемене из многолетней стала однолетней. Сюжеты, над которыми стоит генетически раскинуть умом, а их тьма, без конца».
И Карпеченко ушел, с головой окунулся, в эти сюжеты. Уже не восклицает он: «Можно ли требовать от человека одновременной работы со всеми объектами!» Сам ищет объекты. Работает с ячменем, дрозофиллой, томатами, не забывает и свои капредьки, скрещивает их то с брюквой, то с репой, то с рапсом, получает тройные, четверные гибриды, доказывает, что удвоение хромосомного набора иной раз сто крат повышает скрещиваемость вида.
Широко размахнулся Карпеченко, мир для него в круге микроскопа, да микроскоп теперь нацелен на весь мир! Вот синтезирует, по хромосоме собирает он культурные злаки, сравнивает их с дикарями, следит путь генов по земле и видит, как далеко забрели, растеклись они из вавиловских центров (но родство сохранили!). Вот решили они с Николаем Ивановичем скрестить твердую пшеницу с диким сородичем – должен выйти прекрасный, сильный сорт, вот создает уже новую форму, одним из первых творит, лепит линнеевский вид… Что только не перепробовал он за эти короткие, быстрые годы, каких не выполнял заданий! «Я полон желания сделать что-нибудь дельное в генетике, всеми силами хотел бы помочь Вам в работе, был бы счастлив оставить после себя дельных исследователей…»
Ленинград, 10 февраля 1930 г.
Дорогой Георгий Дмитриевич!
Дело серьезное. Гваюлой мы занимаемся как следует и хотим ею заниматься, но для этого нам нужно возможно больше сведений. Мы в этом деле новички, а кроме того семечки, вот эти самые 14-процентные… Ну, словом, превзойдите ум человеческий и себя превзойдите и пришлите… Понадобятся доллары – и их добудем, но лучше без долларов…
«От Вас очень хотел бы получить обзор по межвидовой гибридизации, обстоятельный, ясный…», «Сообщите хоть коротенечко, в каком положении проблема ячменя…», «Так вот, mу dear, особенно интересно услышать от Вас философию бытия, займитесь внутривидовой изменчивостью. В благословенном климате Калифорнии можете все пообдумать…», «Проблема восточно-азиатского ячменя остается нетронутой и кто-то ее должен решить, а решить её нужно во что бы то ни стало…» И он добывал семена, составлял обзоры, думал о судьбах вида. Начать – не исчислить, да стоит ли считать? Ни дня на холостом шкиву! И только иногда…
Друг мой, дорогая Елена Ивановна!
Что же это все меня забыли? Никто во мне не нуждается, не говоря уже о более приятных чувствах. Из лаборатории ни одного письма. И это очень тяжело. Чем я обидел публику?
«Все мы Вас любим и почитаем, – писал ему Николай Иванович в Калифорнию, – и готовы оказать Вам всемерное содействие». Да, конечно, страна хорошая, а все-таки чужая. И, скрещивая мух, мотаясь по полям и подгоняя время, он упрямо продвигался к цели: «Ячмени уже убрал, половину транслокаций сделал, но для пользы дела надо посидеть еще немного».
Все в Пассадине ему мило, работа, новые знакомства: «Какая здесь приятная атмосфера и как дружно публика живет». А все не то… В лаборатории его признали, любят, Томас Морган, шеф, водит его к себе и вместе они кольцуют голубей, Феодосий Добжанский, ровесник и соотчич, старается смягчить разлуку, кругом доброжелательность, свобода мнений: «Эх, кабы у нас дома была такая обстановка», – вздыхает он в одном письме. И тут же, не удержавшись» добавляет: «Очень хочется домой, мысли мои всегда в Детском».
Как он спешил, как рвался на детскосельские делянки, домой, к себе, в свою лабораторию, в особнячок, увитый диким виноградом… «У него была масса планов, которые он собирался осуществить по возвращении в Ленинград», – сообщает Ф.Добжанский.
Планы, планы, знал ли, мог ли он в самом страшном сне увидеть, что ждет его в родном краю?
Наши пути, – писал мне в Москву Добжанский, – радикально расходились. Мы об этом с ним, конечно, говаривали неоднократно. Но пока Г.Д. был в обстановке субтропической Калифорнии, он вообще считал мой путь неверным.
Добжанский в это время принял твердое решение обосноваться у Моргана, и Георгий Дмитрич, хоть в глубине души и понимал причины, никак не мог его одобрить. Споры их тянулись часто до утренней зари: «Дом есть дом», – твердил Карпеченко. Иллюзий он был начисто лишен, в разумный поворот событий давно уже не верил, оптимизм Вавилова считал ошибкой, и все же, ни минуты не колеблясь, возвращался восвояси. Есть сладкая болезнь, привязанность к отчизне, ее не излечить. «И вдруг в Париже, по дороге к дому, Георгий Дмитриевич переменил свое мнение», – сообщил в одном из писем Ф.Добжанский.
Только что рвавшийся в Россию, он затосковал, пал духом и, стоя на пороге дома, едва не кинулся назад. Что же случилось?
Парижское письмо, последнюю весть от друга, Добжанский, к сожалению, не сохранил, но, напрягая память, восстановил события и мысли давно ушедших лет.
Письмо было написано после посещения Г.Д. оперы в Париже, где он слушал «Бориса Годунова» (быть может, с Шаляпиным, но боюсь соврать). На него эта опера произвела сильнейшее впечатление – прежде всего национальной гордости. Он вообще был большим патриотом. Но отсюда, от ощущения красоты и гордости, он перешел к ужасу от того, что его могло ожидать и действительно ожидало – как будто напророчил!
Красота Парижа и оперы Мусоргского оказались в болезненном контрасте с картиной, которую Г.Д. ожидал увидеть дома. Национальная гордость от «Бориса Годунова» вдруг перешла в общечеловеческое чувство – нечто вроде Достоевского «красота спасет мир».
Сколько помню, этой фразы он не цитировал, но смысл был именно такой. «Красота», конечно, включает не только оперу, искусство, но и науку, вообще духовную, интеллектуальную жизнь.
Здесь, в Париже, Г.Д. осознал, очевидно, более ясно, чем раньше, что мы прежде всего люди, представители вида homo sapiens, что движение мысли или эстетического чувства – единственное, что дает смысл человеческой жизни.
Конечно, он понимал это и раньше, но именно в Париже почувствовал всё с чрезвычайной остротой.
Вот так это случилось, в тридцать два года он вдруг прозрел, метнулся – все-таки поехал в Ленинград, Судьбы не миновать, а там родное пепелище. Какую-то надежду он все же затаил.
Это был не только талантливый ученый, но и замечательный человек.
Я редко встречал более глубокий оптимизм в соединении с открытой, общительной натурой. Во многом он напоминал Н.И.Вавилова, но в обоих случаях оптимизм не был наивным незнанием иди непониманием ужасов того времени. Это был высший оптимизм преодоленного пессимизма.
Всё знал Георгий Дмитрич и всё же надеялся на доброе начало. Даже потом, много лет позднее, замученный бесплодным спором с преступным шарлатаном, видя впереди только тупик и гибель, он стоял на своем: «Я прав, я знаю, что я прав. У меня все продумано». И боролся, искал, неотступно верил: «Истина возьмет верх!» Теперь-то легко быть умнее, придумывать спасительные ходы, а тогда? Как должен был поступить он в самом начале драмы?
«Небезызвестный новатор еще не был хозяином ВИР’а, – писал Добжанский, – но я навсегда запомнил длинную ночную беседу с Н.И.Вавиловым в октябре 1930 года, когда мы с ним были в Секвойном национальном парке в Калифорнии. Н.И. говорил о появлении «новаторов», но его точка зрения была приблизительно такова: при огромных масштабах науки в Советском Союзе найдется место для бунтарей и фанатиков; к тому же эти бунтари постепенно кое-чему научатся и станут разумными реформаторами.
Разговор этот происходил без Г.Д., но он, конечно, знал все положения Н.И. Знал, но оптимизм его не разделял. Вот и опять же Г.Д. оказался лучшим пророком, чем более опытный Н.И.
Все знал, все понимал Карпеченко, однако в марте тридцать первого года был уже дома, в Детском селе. А девять месяцев спустя принял кафедру генетики, стал самым молодым профессором Ленинградского университета. Еще два года и …
Уважаемый Георгий Дмитриевич!
Президиум Всесоюзной академии с.х. наук на заседании 2-го ноября 1934 г. постановил присвоить Вам ученую степень Доктора биологических наук по разделу генетики растений за Ваши выдающиеся труды по разработке теории межвидовой гибридизации.
Президент Академии с/х наук академик Н.И.Вавилов
В списке ученых, которых Совнарком утвердил в этой степени, Карпеченко шел вторым, сразу за Мичуриным. Счастливо, высоким взлетом начиналось его второе десятилетие. И всё бы хорошо – работа, кафедра, университет, всё хорошо, если бы не встретил он на этом пути Презента.
Не хотел, совсем не хотел я вспоминать этих людей рядом, да что делать, коли судьба привела их на одну арену. Добро и зло на свете неразлучны, а в науке были, есть и, верно, еще долго будут люди, для которых собственное благо – основная цель.
Страшен сон, да забыть нельзя. Десять лет боролся Георгий Дмитриевич с этим человеком, десять долгих лет стоял не наживо – насмерть. И пал. Презент помог. Как же забыть, как вытравить это имя из памяти? И не хочу, а думаю, без конца вспоминаю И.И.Презента. Колоритнейшая личность. А полемист! Вступая в эту борьбу, Карпеченко и не подозревал, с какими столкнется приемами.
Презент умел в одной статье, в куцом выступлении разделаться с дюжиной ученых, если эти ученые носили фамилии Вернадский, Филипченко, Вавилов, Кольцов, он распалялся до белого свечения. Никто не уберегся от его карающей длани, ни Мендель, ни Нобелевский лауреат Неллер, ни детский писатель Виталий Бианки.
Вот как он работал: «Обратимся к другому, небезызвестному ученому, физиологу профессору Савичу. Возможно, что многие из вас знают его книгу «Основы поведения человека», но на сегодняшней нашей конференции нужно еще раз посмотреть, что из себя представляет эта книжечка, имеющая на обложке маленький желтый орнамент. Я попытаюсь вам показать, что тут мы имеем дело не только с желтым орнаментом на обложке, тут мы имеем дело с насквозь желтой, даже более того, с черной, с черносотенной книжкой…»
Я читал эту книгу. Профессор Савич, как все павловцы, ставил опыты на собаках. Методом сшибок, градом тормозящих и возбуждающих сигналов он повергал животных в тяжелые неврозы. Савич видел, как истощают мозг несбалансированные нервные процессы. И сделал из опыта практический вывод: учебные перегрузки школьников могут привести к таким же результатам. Что особенного? Врачи, физиологи не раз называли причины детских неврастений. Презент усмотрел здесь вражескую вылазку. Смотрите, как ловко он все отпрепарировал: «Рабфаковец в три года сгрызает гранит среднего образования. Во всем нашем строительстве мы взяли курс пройти 100 лет в 10. Но оказывается, что наши темпы не согласованы с законами физиологии, которые были установлены Савичем на собаках. По-видимому, Савич считает, что у собак может быть целеустремленность соцсоревнования…» И Презент наносит решающий удар: «Профессор Савич отождествляет революционных рабочих с собаками, пытаясь … навязать рабочим собачью ограниченность».
Ну, что мог возразить ученый, какие привести доводы? Презент бил наверняка.
И когда он внезапно появился в Институте растениеводства, все поняли, что генетиков ждет тяжелая борьба.
Но удивительна, как детектив, запутана генетическая биография самого Презента. Даже поверить трудно: Презент, краса и гордость новейшей агробиологии, правая рука Лысенко и главный хулитель Менделя, был отчаянным менделистом. Еще в тридцатом году на съезде зоологов в Киеве он с великой убежденностью доказывал правоту Менделя, а всех его критиков, опровергателей называл метафизиками и антидарвинистами. «Генетика рождает диалектику!» – восклицал Презент. И вдруг заявил: «Генетика погрязла в формализме и метафизике…»
Что случилось? Прозрел он? Осознал, раскаялся и, пережив душевную драму, изменил взгляды? Но почему так круто? Или, может, просто переметнулся, без колебаний перевильнул в чужой стан… История о том, как стопроцентный менделист Презент стал мичуринцем, еще ждет своего проницательного толкователя. А здесь место лишь фактам.
Он действительно начал с генетики, вел в университете философский семинар. Но, нашкодив, был изгнан и появился в ВИР’е. На ученом совете Презент заявил, что хочет диалектически обосновать менделизм. Директор спросил: «Что именно Вас интересует?» – «Пшеница…» Вавилов обратился к главному пшеничнику, профессору Фляксбергеру: «Может быть, вы, Константин Андреевич, зачислите его в своей отдел? Мы дадим вам должность, единицу…» Фляксбергер покраснел: «Нет, Николай Иванович, нам сейчас не до философии…» – «Тогда, – сказал Вавилов, – давайте порекомендуем доктора Презента в Одесский институт. Там сейчас начинаются новые дела». И Презент отправился в Одессу.
Из деловой характеристики.
С первого же момента развертывания теории и практики руководимых Т.Д. Лысенко работ И.И. Презент не только как ученый биолог включился в разработку теоретической стороны этого дела, но, начиная с 1932 года, занял в них ведущее место.
Вовремя он сюда поспел! Трофим Денисович задумал большой поход на генетику и ему очень не хватало человека, способного подпереть, философски обосновать все внезапности его творческой мысли. Презент это умел. Готовый что угодно доказывать, опровергать, кусаться, бить, он сразу вошел в доверие. Лысенко назначил его научным консультантом. И пошла работа.
«Против идеализма…», «Против вреднейшей философии…», «Против формализма и метафизики…» Против, против… Презент противостоял всей новейшей биологии. Впрочем, нет, не всей. В тридцать шестом году он опубликовал доклад «За дарвинизм в генетике». Смешно и грустно читать! Главный итог тридцатилетних исследований, открытие конкретной, ощутимой частицы наследственности – гена – «материалист» Презент объявил чудовищной метафизикой. А первые попытки ученых установить структуру, тончайшее строение гена вызвали у него приступ параксизмального остроумия; он сравнил их с рассуждениями богословов о том, как устроен Адам и был ли у него пуп, если его не родила женщина…
– Но ведь вначале не мешало бы доказать, что Адам действительно существовал! – изощрялся Презент**.
Просто находкой был этот человек для Лысенко. Стоило Трофиму Денисовичу отвергнуть какой-нибудь закон, обрушиться на знаменитое генетическое правило «3 : 1», стоило изречь: «Я без единого опыта объявил, что этого не было, нет и не будет!», Презент тут же добивал: «Лженаука, игра в цифирь! 3:1 – это просто случайность. Выйдите на улицу Москвы, посчитайте черные и серые автомобили – будет 3:1, считайте цвет камушков на морском берегу – будет 3:1…» Стоило Лысенко заявить: «Генетику надо изгнать из сельского хозяйства и оставить в СССР только на правах футбола», Презент сразу подхватывал: «Менделизм – самое вредоносное…»
О, это была достойная пара!
Г.Д.Карпеченко – профессору Н.К.Кольцову
Детское село. 6 августа 1935 г.
Глубокоуважаемый Николай Константинович!
Последняя сессия Академии с.-х. наук в Одессе, как и общение с широкими массами специалистов-семеноводов, а Вы, наверное, прибавите, и животноводов, создают впечатление, что мы еще недостаточно популяризировали генетику в Союзе, что распространена устаревшая точка зрения… Было бы замечательно, если бы Вы, умеющий так ярко и вместе с тем научно широко и доступно излагать нашу область, взялись бы написать популярную, общедоступную генетику…
Не успел Кольцов, спешил закончить свой главный труд.
Карпеченко продолжал борьбу. Он повторил на своих делянках все лысенковские опыты по переделке озимых в яровые. «Со всею точностью повторил!» И получил прямо противоположные результаты: не откликалось растение, не меняло исходных свойств.
Карпеченко подвел первый итог:
– Мы должны сказать, что в области генетики академик Лысенко имеет много слабых сторон… Только враги Трофима Денисовича могут его здесь защищать. Тот, кто хочет гордиться академиком Лысенко, должен сказать ему определенно: вы недооцениваете огромной науки, которая владеет колоссальным материалом, вы её совершенно не используете!
Но речь шла уже не о пользе и не науку хотел уберечь Георгий Дмитриевич, а хотя бы своих аспирантов, смену, ту доверчивую вировскую молодежь, которая, как в прорубь, двинула за новаторами.
– По нашему глубокому убеждению, – выступил Карпеченко в ноябре I936 года, – Трофим Денисович из современного учения о наследственности не усвоил ничего, и теория его – я еще раз подчеркиваю – при ознакомлении с самыми элементарными генетическими фактами проявляет свою полную несостоятельность.
Это было опасно. Лысенко не оставлял такие речи без последствий. Но пока, на первых порах он ограничился жалобой: выступая на совещании ударников урожая, в присутствии Сталина, назвал Карпеченко в числе своих идейных врагов. Презент тут же кинулся, стал терзать книгу Карпеченко «Теория отдаленной гибридизации», а немного спустя, в декабре тридцать шестого года Лысенко спустил его на лидера генетики Н.К.Кольцова. Прямо на сессии ВАСХНИЛ, где Кольцов пытался отстоять хромосомную теорию, вразумить агрономов, Презент бросил:
– И когда вы, академик Кольцов, говорите о том, что всем надо учиться генетике, я позволю себе заявить, что вам прежде всего надо постигнуть ее азы!
Многоуважаемый Николай Константинович!
Примите самую сердечную благодарность за присылку Вашей прекрасной книги, столь наглядно показывающей Вашу плодотворнейшую научную работу в течение десятков лет.
Жуткие дела у нас получаются с конгрессом***. До нового срока осталось год пять месяцев, а движения не видно. Иноземная пресса у нас неблагоприятная (см. Science, Nature, Journ. Of Heredity). Я пристаю к Вавилову, к нашим партийным руководителям, но что-то ничего не получается. Нельзя ли что-нибудь предпринять в Москве?
Н. И. Вавилов – К.А.Фляксбергеру
Дорогой Константин Андреевич!
Сельхозгиз приступил решительно к изданию Библиотеки классиков, на Вашу долю выпадает подготовка Менделя. Значение этой книжке придается большое, и нужно ее сделать на ять. В вопросах терминологии генетической посоветуйтесь с Карпеченко.
…Получены замечательные письма со всех концов земли, из которых можно видеть, что русская наука имеет друзей среди самых интересных людей, среди крупнейших ученых, крупнейших государственных деятелей до Исмета Иненю в Турции. Цитировать их неловко, потому что на йоту и мы с Вами сопричастны к этому делу.
После той сессии они перешли в наступление. Что стало с ВИР’ом! Далеко ушли времена, когда Вавилов писал: «Мы представляем собою спаянную группу»… Изменился ВИР. «Презент почти не выходил из института. Его нахальству не было границ, – вспоминает профессор Е.Н.Синская. – Каждая аспирантская тема, принятая Ученым советом, обсуждалась вторично в общежитии аспирантов… Потом сыпались требования к Вавилову повторно обсудить темы». И Николай Иванович, Карпеченко, Говоров, измотанные дневными заботами, до полуночи сидели на советах, доказывая молодым аспирантам, где свет, где тьма.
«Припоминаю одно из таких особенно ожесточенных обсуждений, – пишет Синская, – Вавилов пришел на заседание совершенно больной, с завязанным горлом. Ему сказали: «Вы бы, Николай Иванович, сегодня не приходили». Он ответил с горечью:
– Не придешь тут! Ну, давайте попробуем еще раз хотя бы немного сдержать эту ораву.
Презент выступил настолько неприлично, что Николай Иванович лишил его слова. Тогда Презент отозвал часть своих сторонников и громко, на весь зал, возгласил: «Идем, организуем обсуждение в другом месте». И вся ватага вышла, резко хлопнув дверью».
Из ВИР’а в Университет! Он сновал по длинным коридорам, вел доверительные беседы со студентами, внушал, что кафедра генетики – оплот реакции. Трудно было поспеть за Презентом. И как ни старался Георгий Дмитриевич обезвредить его речи, сколько ни выступал на советах, собраниях, Презент успевал опустошить, сбить с толку много молодых умов.
Посерел, осунулся Карпеченко. «На лице его, – пишет Синская, – стало обычным выражение недоумения и ужаса. Откуда все это свалилось? – спрашивали его глаза». С утра он садился не за микроскоп, нет, составлять объяснительные записки! Сочинял докладные, отвечал на какие-то запросы, вопросы… Писал, рвал, мучился, подыскивая какие-то магические, всесильные слова.
Прошел год, еще год. Уже оценили селекционеры его открытие и колосилась на полях знаменитая гибридная пшеница «Саррубра», уже цвела, кустилась эфиромасличная герань с двойным набором хромосом, рос выведенный самим Карпеченко крупнозерный ячмень и нивы России готовились принять десятки новых полиплоидов. А он все доказывал, пытался унять, сдержать «эту ораву».
Из стенограммы заседания Бюро секции
научных работников Ленинграда
Вавилов: Положение таково, что какую бы вы не взяли иностранную книгу, все они идут поперек учения Одесского института. Значит, эти книжки сжигать прикажете? Не пойдем на это… До последних сил будем следить за передовой наукой. На костер пойдем, будем гореть, но от своих убеждений не откажемся…
Вот тут сидит доктор Карпеченко, которому эта дискуссия тоже в печенку влезла, может быть, он меня дополнит.
Карпеченко: Я принадлежу к тем, кого называют всякими страшными словами, я – генетик.
Положение наше отчаянное… Чрезвычайно жуткое. Сюда ездит некто Презент, который говорит, что один генетик в Москве покушался на самоубийство. И, действительно, надо признать, что настроение у нас такое, что подобные случаи могут быть.
Шунденко**** (зам.директора ВИР’а). С вами, что ли?
Карпеченко: Нет, не со мною. Я, знаете, в борьбе закалился. Но страшно тяжело морально. Люди при встрече со мной на вопрос «как живете?» отвечают: «Да уж лучше вас». С этой кафедры заместитель директора говорил: «Вашу лабораторию надо ликвидировать, она стоит на позиции хромосом и генов». Такое чувство все время, что ты не научный работник, а сектант. Я говорю о том, как нам фактически приходится работать…
Мы сейчас слышим, что Мендель – это лженаука. Николай Иванович сказал, что тот, кто знает материал, не может с этим согласиться, и нам остается гореть на костре за эти 3:1.
Вавилов был тверд и невозмутим, а Георгий Дмитрич, хоть и крепился, часто падал духом. Не мог он выдержать этого натиска невежд, проломных выжиг.
Но Университет, молодой, упрямый, еще держался и при случае давал новаторам отпор. В марте Презент сделал на биофаке установочный доклад «Развитие дарвинизма и учение Мичурина-Лысенко». Состоялся диспут. «Большинство выступавших, – меланхолично отмечала университетская газета, – защищало позиции менделизма и лишь несколько человек отстаивали учение Мичурина-Лысенко».
Не принимали студенты новоявленных пророков, отвергали их самодовольный бред. И Презент горевал в многотиражке: «Нельзя без боли за наши советские кадры – в ответ на заданный мною на лекции вопрос, прорабатывали ли студенты работы Мичурина и Лысенко, читают ли они журнал «Яровизация» – выслушивать единодушный ответ: нет!»
Как ни старался Презент, сколько ни читал докладов, биофак за ним не шел, и летом, собираясь в Старопетергофском парке у своих делянок, студенты пели гимн:
И славное «три к одному» возвещать!
«Кафедра генетики растений игнорирует открытия Лысенко, – бубнила газета. – Университет не воспользовался тем благодарным обстоятельством, что в его стенах работает проф.Презент…»
А Университет смеялся и пел:
Мы славное Менделя «три к одному»!
Но порою было не до песен.
В конце тридцать восьмого года Карпеченко рискнул на крайний шаг – обратился с письмом в секретарю Ленинградского обкома, члену Политбюро Жданову. Рассчитывая на относительную образованность этого вождя, Карпеченко разъяснил ему суть агротехнических приемов Т.Д.Лысенко и просил прекратить их пропаганду в прессе: «Это опасно для науки и всего сельского хозяйства!» – заключил он письмо, под которым подписались одиннадцать ученых.
Результат сказался быстро. «Весною 1939 года, – пишет Синская, – нас во главе с Вавиловым вызвали в ЦК… Доклад Карпеченко, чье имя стало уже одиозным, вызвал неожиданное одобрение, высказанное несколько удивленным тоном: «Это не так уж глупо и может пригодиться…» Снова воспрянул, возликовал Георгий Дмитрич: теперь уж, по крайней мере, дадут работать.
Увы, не дали, а люди, принимавшие его весной в ЦК, по осени исчезли: «Их смело ветром, который теперь называют «культом личности»», – грустно замечает Синская.
Кто-то очень сильный стоял за спиной Лысенко, и пора бы, пора Георгию Дмитриевичу подумать о себе.
Нет, не хочет! Вернулся в Ленинград и снова за свое. «Руководитель кафедры генетики профессор Карпеченко начисто отрицал Лысенко», – с ужасом сообщала университетская газета.
Все понимал Георгий Дмитрич – и опасность видел, но когда дело шло о науке, не принимал в расчет ничего, кроме самой науки. Тесть предложил ему хоть ненадолго отключиться, отдохнуть на даче в Ильинке, под Москвой: «Нет, – ответил Карпеченко, – отсиживаться в такое время не могу!» Брату он открылся: «Я качусь, как ком снега – и ничего уже не могу сделать». Летом он опять отправился в Москву,
Из письма Шуры Серебровской, студентки МГУ
…Тут у нас были большие события. Г.Д. и другие генетики ездили к наркому и вернулись очень довольные. Нарком их поддержал, сказал, что если он и поддерживает Лысенко, то это не значит, что нужно ущемлять генетику и тем паче ликвидировать ее… И вообще окончил словами: «Передайте товарищам, чтобы работали спокойно». Г.Д. на этом собрании выступал, говорят, очень удачно, и вообще у него сразу поднялось настроение (и у нас также).
Но спокойно работать не пришлось: властью президента Сельхозакадемии Лысенко снял с Выставки Достижений Народного Хозайства всемирно известную работу Карпеченко по межвидовым гибридам, Георгий Дмитриевич не смолчал.
– Это открытие, принадлежащее советской науке, – сказал он на большом совещании, – не допускают на выставку потому, что оно построено на хромосомах… Да поймите вы нас, мы хотим, как и все, приносить пользу нашей стране, мы знаем нашу науку и видим, что она может дать…
Истина всегда в пути и всегда опаздывает. Вавилов это знал. Но смириться, уступить не мог: «От убеждений не откажемся!»
И, отстаивая институт, генетику, дело всей жизни, он в каждой речи, в самом кратком выступлении говорил о Карпеченко: «Если вы приедете в Детское село, мы покажем вам буквально чудо..» Карпеченко скрещивал уже австралийские виды с американскими и, получив бесплодные гибриды, через год возвращал им цветение, жизнь.
На пяти континентах побывал Николай Иванович, знал всех генетиков мира и, казалось, ничем его не удивишь, а тут признал:
Летом сорокового года Вавилов направил наркому земледелия протест: Лысенко проявил к работе Карпеченко несправедливое пристрастие, самовольно удалил из Ученого совета ВИР’а 14 крупнейших специалистов… Но что мог Вавилов?
«Наркомзем всецело поддерживает научные взгляды академика Т.Д.Лысенко и рекомендует работникам селекционных станций претворять их в своей практической деятельности».
Газета «Социалистическое земледелие», орган НКЗ СССР, № 52 от 5 марта 1939 г.
В октябре сорокового года, переждав два месяца после ареста Вавилова, в Ленинград явился сам Лысенко: хотел убедиться лично, дотла ли разрушен его ставленниками Институт растениеводства. Попутно решил просветить профессоров и студентов университета, прочел им лекцию «Что такое мичуринская генетика». И снова аудитория застыла в тяжком изумлении: «Мы, – изрек новатор, – признаем наследственность такой, какая она есть в природе: крепкой, консервативной, неподатливой… Но надо сделать так, чтобы растение не упиралось. И вот, когда знаешь, в какой момент надо не угодить ему, а противопоставить иные условия, то видишь, что полетели, как в трубу, все старые наследственные свойства…»
Коротко и просто. Никаких хромосом и расщепления признаков Трофим Денисович смолоду не признавал. Обосновав таким манером свой опыт по переделке озимых в яровые и обратно, он с гордостью добавил: «Там, где не знают учения Моргана, там можно изложить все дело втрое короче». Тут, пожалуй, он был прав.
Был ли на этой лекции Георгий Дмитриевич, неизвестно. Так или иначе, визит президента ударил по нему новой болью: «Кафедра генетики продолжает оставаться оплотом реакционных учений, – писала под диктовку президента университетская газета. – Руководство должно сделать из этого вывод».
– Не поддерживайте Карпеченко. Судьба его решена! – говорила студентам доцент Поташникова, влиятельный член университетского парткома.
И все-таки, пока был жив, Карпеченко хранил в душе какую-то почти безумную надежду, В ноябре сорокового года, после ареста Вавилова, он спросил на собрании нового директора ВИР’а: «Будет ли вестись работа по отдаленной гибридизации, по синтезу иммунных сортов пшениц?» Иоган Гансович Эйхфельд ответил твердо: «Да, будет, но нe теми путями, которыми шли. Есть один-единственный путь – это путь Лысенко».
Карпеченко уволили с работы, сперва из ВИР’а, потом из Университета; неподалеку от его дома в Детском селе, сменяя друг друга, днем и ночью гуляли по Московскому шоссе два незнакомца.
Сомнений не оставалось, дни Карпеченко были сочтены. Это знал ректор Университета, знал Эйхфельд, знали супруги Презент и Поташникова, сотрудники кафедры и газеты, знал это и сам Георгий Дмитрич: «Вы ко мне, пожалуйста, не заходите, – просил он друзей. – Вероятно, скоро придут и за мной».
Но, удивительное дело, враги его не были едины даже в эту заключительную пору. В конце сорокового года партком ВИР’а в секретной характеристике аттестовал Карпеченко как лучшего генетика Союза, автора больших открытий: «Материалов, дающих основание подозревать в политической неблагонадежности, партком не имеет». В это время дело Георгия Дмитриевича шло уже совсем по другим каналам и никто, ни партком, ни сам нарком, не могли его спасти.
Февральской ночью работник Детскоседьской станции ВИР’а Александр Лутков проснулся от глухого шума за стеной. В квартире профессора Говорова шел обыск. Крадучись, Лутков подошел к окну, чуть отодвинул занавеску: в темноте у чугунно кованой ограды стояли наготове две легковые машины. Потом он услышал торопливый топот, натужный гул остывшего мотора – и все стихло. Только мела поземка, да тускнели вдоль Московского шоссе ночные фонари. Карпеченко, Говоров и Левитский больше не вернулись в Детское село.
Месяц спустя, весною сорок первого года Презент выступал на собрании двух факультетов ЛГУ, говорил, как всегда, о реакционерах, врагах народа… «Где академик Вавилов?» – спросили его студенты.
– Разве я сторож брату моему? – ответил он как Каин.
Он мог бы сказать то же самое о Карпеченко, но промолчал.
Не уберегся Георгий Дмитриевич. Умен был, схватчив, сверх меры даровит. Но то в науке, а тут… Да, что говорить, ум счастью не порука. Но сколько же счастливых случайностей, удач, совпадений, сколько добрых талантливых людей пестовали этот ум. И как непросто все было, какой путь он прошел: от Жегалова к Николаевой, потом к Вавилову и экстра-генетику Филипченко, а там европейцы Винге, Бетсон, Федерлей – каждый вкладывал в него свою крупицу, наконец, триумф на конгрессе, Пассадина, Морган, дома кафедра, профессорство, всемирный успех – и Презент с Лысенкой!
…кто жe думал, что все так будет? Я помню наши с ним игры в саду – там было хорошо, деревья, кусты крыжовника, клумба, гамак, стол… На деревьях скворешни. Каждую весну Гоша с папой вешали их, а потом «Прилетали скворцы» и где-то в кустах пела малиновка. У каждого из нас было по дереву рябины, где мы делали гнезда, изображая птиц. Часто Гоша представлял из себя ястреба, летал по двору кругами и стремительно снижался, прижав руки к бокам, на меня…
Вельск стоит на возвышенности и спуск к лугу, к реке весь покрыт летом крапивой. В ней мы ловили кузнечиков. Часто в азарте ловли я падала в крапиву и с плачем выбиралась с его помощью. Бежали к ключу (вода холодная, бежит из колоды), и Гоша лечил меня, прикладывая листья подорожника… Спускались к ручью, он весь в осоке с крупными незабудками, через него скользкие бревна, а в воде какие-то мальки, скользят жуки-водомеры, лежат ручейники, улитки, летают стрекозы – большие коричневые с голубым и мелкие голубые. Бабочки. Все зелено, ярко, на лугу масса цветов, одуряющий запах, жаворонок поет и луговая пеночка, там было чудно, а, может, это детство… Родной дом?
Ведь я до сих пор помню ощущение прохлады влажной глинистой дорожки среди высокой луговой травы, когда, сбросив сандали, мы бежали купаться к реке. А там чистый желтый песок и полосы от ракушек и чистая голубая вода, и в ней отражаются кусты ивы. А за рекой лес, и солнце, и голубое небо. Вполне понятно, что Гоша стал биологом, ведь и братья любили охоту и рыбную ловлю, и все, что связано с красотой природы, и папа понимал и приучал нас к ней.
Все, что наберем, несли домой и распределяли по банкам и коробочкам – и все это трещало и квакало по вечерам, а днем пела папина канарейка. У Гоши были две черепахи – Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, иногда он пускал их погулять. Помню наше горе, когда они куда-то пропали.
У брата Лени – он учился в Медицинской академии, – в бане была лаборатория, где делали чучела птиц, собирали коллекции жуков, лягушек – там пахло эфиром, хлороформом… Но туда нас пускали только со старшими. Помню, около бани была черемуха и сидел на цепи коршун, я его очень боялась. Помню диких уток с подрезанными крыльями, гуляющих по двору, плавающих в корытах, филинов в клетке (страшно кричали ночью), куропатку, жившую у сестры, и зайца, нашего с Гошей питомца, большого драчуна, удравшего через решетку – сбил ее лапой.
Все это приносили из лесу братья, у них были чудесные охотничьи собаки – наши друзья, которые были членами нашей семьи. Мои братья и сестры все учились в Вологде. Гоша уехал туда совсем маленьким…
Я страстно любила каникулы, было шумно, весело. Гоша играл на кларнете, потом на виолончели, старший брат – на скрипке, сестры – на пианино, устраивали концерты и спектакли. Играл и Гоша, и часто пел. Уже взрослым, когда у него было хорошо на душе, и всё было хорошо, он лохматил густые волосы обеими руками и, потирая ладошки, весело смеялся,
Вельск очень зеленый городок, а небо там с такими нежными переходами на закате и восходе солнца, да и ночи-то нет – светло и кричит с наволока коростель…
Маме наверно было трудно в эти дни каникул, ведь на ней держался весь наш дом, но она у нас была поразительная – умная, серьезная, редко ласковая, зато ласка ее была для нас очень дорога.
Папа работал, помню его уже пожилым. Он очень любил, понимал лес, хорошо его знал. Помню его сидящим на пне, слушающим птиц, шум леса, и мы невольно замолкали, слушали, смотрели. А лес был высокий, с оленьим мохом, с богородской травкой на опушках, с запахом смолы летом, а зимой с громадными охапками снега на деревьях.
Папа очень любил Гошу, много уделял ему времени, и, по-моему, они были большими друзьями. По вечерам мама иногда читала нам Толстого «Детство», «Отрочество»… А как удивительно пахнут в детстве книги. Мы с Гошей их часто нюхали… Помню, много после, когда Гоша принес мне «Жизнь растений» Тимирязева и сказал, чтобы я начала читать, мое какое-то настороженное и в то же время боязливое чувство – доступна ли она мне? И гордилась, что стала взрослой, ведь я собиралась ехать учиться дальше, и, конечно, в первую очередь понюхала ее… Но запах был уже не тот – детство кончилось.
Потом мне пришлось быть с ним в двадцать первом году. Он жил тогда в Лихоборах, учился в Петровской академии, снимал комнату с товарищем Мишей Павловским. Жили трудно, голодно. Мигалка едва светит, в углах комнаты иней, мальчишки ложатся в постели, я наваливаю на них все, что можно, а сама бегу к хозяйке на печь. По утрам Гоша заваривал из самовара муку – этот клей мы ели. Иногда получали посылки из дома с настоящим хлебом, резали на тоненькие ломтики и наслаждались. Помню случай с Мишей, прихожу в комнату, пахнет керосином. Михаил ест какую-то кашу, нюхаю – керосин, а он ест и занимается. Спрашиваю, что налил – говорит, спутал, под столом стояли две бутылки, с конопляным маслом и керосином… Ну не выбрасывать же кашу…
Потом помню его доклад в Ленинграде, в Академии наук, Гоша на кафедре, в студенческой форме, кругом седые академики, было страшно за него, сидела, сжав руки, плохо понимала, пришла в себя от аплодисментов. А дальше не помню, забыла…
Мы все жили хорошо, а потом такой ужасный конец.
Осенью сорок второго года Салтыковская-Карпеченко в пересыльной тюрьме Златоуста на Северном Урале, перестав принимать пищу, покончила собой. Много лет спустя дочь Левитского получила в военной прокуратуре справку: «Смерть от дряхлости». Шел ему 64-й год и бывало в Детском редко кто мог переиграть его на корте.
Леонид Ипатьевич Говоров был тоже посмертно признан невиновным.
След Карпеченко затерялся в дальних далях. Много лет искал я свидетеля последних его дней, но без успеха. Однодельцы его все до единого погибли, доступа к документам следствия я не имел, ни одной фамилии не ведал – розыск этот казался мне безнадежный. И вот однажды, уже уверенный, что след потерян, я вдруг узнаю: есть очевидец, сам объявился. В Крыму, на мисхорском пляже, один ботаник познакомился с соседом, и тот, слово за слово, поведал о своей лагерной судьбе. Тут и мелькнуло дорогое имя. Ботаник рассказал друзьям, и раз в командировке, уже на Севере, я получил долгожданный адрес.
Пишу, жду месяц, другой и третий, нет ответа. Неужели и эта нить оборвется. На пятый месяц подучил письмо: «Да, я с ним сидел в камере № 17 Лефортовской тюрьмы… Если вы приедете ко мне, буду рад рассказать. Весь к Вашим услугам».
Еду, слушаю, пишу. И вот что узнаю.
«Как-то вечером в конце февраля сорок первого года в нашу камеру втолкнули молодого человека, В черном пальто, бобровой круглой шапке, заплакан. Постоял у двери, помолчал, потом говорит: «Я профессор Карпеченко из Ленинградского университета»… И опять умолк. Мы тоже не начинаем. Говорить смерть как охота, каждый новичок для нас газета, вести с воли, но мы молчим, освоится, немного пообвыкнет, сам расскажет. Сидим… От меня, говорит, требуют признания во вредительстве. Разговорился – и все начистоту о Вавилове, о борьбе с Лысенко нам поведал. «Признались? » – спрашиваю. – «Нет, что вы, ни за что!». Ну, мы ему объяснили, как себя вести. Тут опять ключ заскрежетал: на допрос. Я ему кулак вдогонку, держись, мол, не признавайся, а сам думаю, где ж ему устоять, тут ведь на измор берут, до исступления доводят. В камеру вернулся только утром, перед подъемом, это нарочно делали так, чтобы он не спал. Но доволен: я, говорит, ни в чем не уступил. Днем, чуть подремал, сидя, а вечером опять в дверях заскрежетало. Наутро приходит: знаете, опять отбился, так он меня мучил, а я: нет и нет.
Точно сам удивлен был, что держался, глаза от бессонницы провалились, синяки, места живого нету, а доволен. Вечером опять уводят… Не помню, кажется на четвертый или на пятый раз пришел, сразу на койку и заплакал. Все стало ясно. Мы его не трогаем, ждем. Горе ведь и в том аду входило в норму жизни. Другу моему дали вышку, потом помиловали, встретились мы уже в лагере, как, говорю, пережил ты это? Ничего, первые три дня тяжело, а потом привык и сто один день ждал расстрела.
Утих Георгий Дмитрич, приподнялся и говорит: я подписал показание, что был вредителем. Дня два никто его не тревожил, потом снова на допрос. А мы его научили: откажись от показаний. Вернулся снова в синяках, видим, ничего не вышло, раз признал, отбиваться поздно. Ну, говорю, давай придумывать твою вину. Следователь ведь ничего путного и наклепать не мог, его же заставил…»
Уютно тут, тепло в хозяйском срубе, пьем чай с клубникой, за стеною ухает, болбочет телевизор, хозяин, хоть и сед, пригорблен, все не сидит на месте, принес мёдку, анисовки из собственного сада, показывает дом, водопровод, сам ванну сынженерил и, глядя на все эти достатки, на покой, разлитый в стариковском доме, я мысленно корю себя, зачем я растревожил его память, ведь все давно забыто, всё теперь у него другое. Но словно подловив меня на этой мысли, он мимоходом замечает: «Иной раз хочешь позабыть, стереть из памяти все дочиста, а не выходит, не мелом, чай, тогда писали». Садится в кресло, долго курит – и снова передо мной далекий год, зима, слепящий свет лефортовских казематов и заплаканный Георгий Дмитрич.
«Хотим помочь, а как, не знаем, вся надежда на него. Ну, что бы тебе придумать, чем ты мог вредить? Поднял плечи и молчит. Если сам не скажешь, мы тем боле. Сидели долго, наконец он говорит: скажу, что снижал урожай, там, где можно было вырастить сто колосьев, собирал пятнадцать. И то дело, говорю, только смотрите, Георгий Дмитрия, теперь вам будут шить шпионаж. Тут уж логика такая, раз вредил, значит и тайны выдавал, всеми средствами старался. Через день пришел опять в синяках: следователь требует шпионаж. Стали мы думать, в чью же пользу? Сосед подсказал: скажи, говорит, что на Уругвай работал, чем абсурдней показание, тем легче на суде будет отказаться. Вернулся Георгий Дмитрич довольный, – следователь версию принял, только требует деталей. Ну, скажи, что передал сверток с колосьями уругвайскому послу… Раза два был после этого на допрос: сходило, потом возвращается опять в слезах. Следователь разобрался: «Что ты мне, е… м…, залупа конская, Уругвай подсовываешь, тоже мне держава!» Долго он, издеватель, мытарил Георгия Дмитрича, но своего добился, оговорил себя Георгий Дмитрич. Потом был суд. Но этого я уже не видел, меня осудили раньше…
Георгий Дмитриевич Карпеченко был расстрелян 28 июня 1941 года на «Коммунарке», под Москвой. Шел ему сорок второй год.
…Годы прошли и чудо, сотворенное Карпеченко, вернулось на родные поля. Я приехал к немолодому уже Виктору Евграфовичу Писареву посмотреть знаменитые, перезимовавшие под Красноярском, белые хлеба. Хотел своими руками пощупать сибирский ситник. Писарев начал издалека, неторопливо поведал, какой лабиринт одолел он, пока вывел эти сильные, устремленные на север ржано-пшеничные гибриды. А под конец сказал:
– Мы много путали, плутали, но после Георгия Дмитриевича стали понимать суть дела. Вся полиплоидия пошла от Карпеченко
Новосибирский селекционер Александр Николаевич Лутков рассказывал, как удалось ему умножить урожай свеклы на Кубани. И вышло, что «Полигибрид-9», давший на каждом гектаре 50 центнеров лишку, уходит корнями в те самые капредьки. И тут Карпеченко! Везде он: и в полиплоидной гречихе Сахарова, и в неполегающей ржи Бреславец, в новых сортах ячменей, льна, гибридного хлопка…
Инженерную генетику основал Карпеченко и, как всякая настоящая наука, она применима во всей растительной индустрии.
– Да, всюду, – кивнул Лутков, – даже моя мята, от роду стерильная и дающая теперь до пяти тысяч семян, получена удвоением хромосом.
Нет, не расстаться мне с Георгием Дмитриевичем, вовек не забыть. Я встречал его имя в лабораториях селекционеров, на опытных делянках и подмосковных полях, я и сейчас вижу его синие, как вологодское небо, глаза, и я верю: жив Карпеченко. Можно убить ученого, сжечь его книги и выскоблить повсюду его имя, но нельзя убить созданную им науку.
* Ваши прекрасные препараты доставили мне огромную радость».
** Не так уж все это смешно: даже после открытия молекул наследственности, расшифровки белкового кода Презент, как и встарь, старался сбить ученых с толку: «Вещество, или орган наследственности, присущий любому организму при любой ситуации – биологический нонсенс, и не следует тратить время и научные ресурсы на его поиски», – утверждал он в 1962 году.
*** Речь идет о VII международном конгрессе генетиков, который намечался в Москве осенью 1938 года, дважды переносился и в конце концов был сорван лысенковцами. Боязнь крупного скандала пересилила страсть к хвастовству.
****Шунденко – майор войск внутренней службы НКВД, в прошлом – невежественный аспирант Института растениеводства, был назначен заместителем директора помимо воли Вавилова.